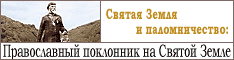Юбилеи 2024 года
130 лет
Освящение храма на русском подворье в Яффо
Храм св. апостола Петра и праведной Тавифы на русском участке в Яффо. П.В. Платонов
130 лет
Кончина архимандрита Антонина (Капустина)
155 лет
Освящение храма св.мц. царицы Александры в Иерусалиме
190 лет
Юбилей Василия Хитрово - инициатора создания ИППО
Памяти старого паломника почетного члена и секретаря Императорского Православного Палестинского Общества Василия Николаевича Хитрово + 5 мая 1903 г. И. К. Лабутин
Памяти основателя Палестинского общества. Некрополь Никольского кладбища Александро-Невской лавры. Л. И. Соколова
В. Н. Хитрово — основатель Императорского Православного Палестинского Общества. Н. Н. Лисовой
95 лет
Кончина почетного члена ИППО Алексея Дмитриевского
Алексей Афанасьевич Дмитриевский. Н. Н. Лисовой
135 лет
Кончина благотворителя Святой Земли Александра Казанцева
Соликамский член Императорского Православного Палестинского Общества Александр Рязанцев и русский благовестник на Елеоне. Л.Н. Блинова
Проекты ИО ИППО
Приглашаем в паломничество по Святой Земле
Иерусалимское отделение ИППО сотрудничает с израильским министерством по туризму
Иерусалимское отделение ИППО разместило в Интернете выпуски "Иерусалимского вестника"
Иерусалимское отделение ИППО переиздало раритетную книгу Джона Гейки о Святой Земле
Статьи и интервью
«Явление Святой Руси в европейском Петербурге» К столетию освящения Барградского Николо-Александровского храма. Д.Б. Гришин
Лавра преподобного Саввы Освященного в Иудейской пустыне. П.В. Платонов
Монастырь преподобного Герасима Иорданского в Иорданской долине. П.В. Платонов
Цикл статей П.В. Платонова о русских монастырях и храмах на Святой Земле
Информационные партнеры
Сибиряк в Палестине: трудный путь сургутянина Я.А. Кайдалова в Святую Землю
Распространение и утверждение православия на сибирской земле в конце XVI–XIX вв. крепкими духовными узами неразрывно связало её население с родиной христианства. Материальных следов этих нитей сохранилось немного. Однако и того, что имеется в нашем распоряжении достаточно, чтобы попытаться оценить ту роль, которую играла Святая земля в жизни сибиряков.
Первоначально информация о святынях Палестины, ее прошлом и настоящем жители Сибири могли черпать из литературных источников. К их числу следует отнести не только текст Священного Писания, но и рукописные и печатные хождения паломников, жития, повести, научные труды.
К XIX в. относятся неоднократные упоминания о сборе за Уралом пожертвований на нужды православных арабов Палестины и Сирии представителей Иерусалимского и Антиохийского патриархатов.
Сведения о Палестине могли быть получены от редких паломников, отважившихся отправиться из далекой Сибири на поклонение Гробу Господню. Разумеется, не всегда подобные попытки могли увенчаться успехом. Однако само намерение совершить поездку в Иерусалим свидетельствует о той роли, какую играли святыни Востока в духовной жизни православного сибиряка.
Среди этих попыток внимания заслуживает небезынтересный пример паломничества сургутянина в Палестину, относящийся к 60-м гг. XIX века.
Фамилия Кайдаловых принадлежит к старинному священническому роду, на протяжении двух столетий окормлявшего верующих в отдаленных уголках Севера Западной Сибири. Филофею Лещинскому, крестившему в начале XVIII в. несколько десятков тысяч «инородцев», помогал «бывшей сургуцкой заказщик священник Алексей Данилов сын Кайдалов» [1].
В дальнейшем его потомки занимали священнические и причетнические должности во многих приходах края: Березовском, Сургутском, Нижне-Лумпокольском, Мужевском, Ларьякском и др. [См., напр.: 14, с. 50; 18, с. 28, 34–35, 95–97, 190–199, 224–233; 20, с. 168–169].
В первой половине XIX в. в Сургутской Троицкой церкви настоятелем являлся один из представителей этой фамилии – Андрей Яковлевич Кайдалов (род. около 1794 года) [2, л. 40].
Андрей Яковлевич обучался в Тобольской духовной семинарии, в 1818 г. был уволен из богословского класса, затем рукоположен архиепископом Амвросием (Келембетом) в священники и направлен в село Верхне-Лумпокольское (по народному названию Криволуцкое) в церковь Рождества Христова Сургутского заказа [4, л. 41]. В 1829 г. его переводят к градо-Сургутской Богородице-Рождественской церкви, где он также занимает должность благочинного, а с 1831 г. «депутата и увещевателя» по городу Сургуту [4, л. 41]. К его заслугам необходимо отнести инициативу создания первого постоянно действующего учебного заведения в уезде – Сургутской казачьей школы, открытой в январе 1835 года. На протяжении первых трех лет А.Я. Кайдалов безвозмездно исполнял обязанности учителя, за что удостаивается «благодарственного аттестата» от Тобольского губернатора [7, л. 7–7об].
У А.Я. Кайдалова была вполне обычная по меркам того времени семья: жена – Татьяна Васильевна, урожденная Вергунова, происходившая из священнического рода, пять детей: Яков (большой), Яков (малый), Иван, Секлетинья, Мартин [5, л. 5об–6].
Подрастающие сыновья по примеру отца (а также по строгому предписанию епархиального начальства) направлялись на обучение в Тобольск. Ни один из них не окончил полный курс семинарии, что вряд ли произошло по недостатку способностей. Скорее всего, родители считали, что 2-х–4-х лет пребывания в стенах школы вполне достаточно, чтобы начать карьеру клирика. Кроме того, содержание в губернском городе обходилось недешево. В 1835 г. весь штат Сургутской Троицкой церкви, включавший двух священников и четырех причетников, получал «вспомогательного жалованья» всего лишь 600 рублей [6, л. 1].
Судьба братьев сложилась по-разному, но так или иначе она оказалась связана с духовной службой. Старший Яков (1819 г. р.) в возрасте 16 лет поступил послушником в Тобольский Знаменский монастырь. Третий – Иван (1825 г. р.) в 1838 г. был определен пономарем к градо-Тобольской Спасской церкви, а вскоре по просьбе родителей на ту же должность к Сургутской Троицкой церкви [8, л. 398об].
Интерес представляет жизненный путь младшего Якова, родившегося в 1822 году. Впоследствии в одном из прошений он писал, что не смог получить полное образование «по слабости здоровья», из-за чего был исключен из уездного училища при Тобольской духовной семинарии и вернулся к родителям в Сургут [10, л. 20]. В 1820–1830-х гг. данное учебное заведение состояло из 4-х классов: 1-го, 2-го приходского училища; низшего, высшего отделений собственно уездного училища. Я.А. Кайдалов проучился, по крайней мере, до 3-го класса (низшего отделения) и поэтому должен был освоить русское и славянское чтение, чистописание, церковное пение, арифметику, начатки латинского и греческого языков.
Из клировых ведомостей можно заключить, что в действительности Я.А. Кайдалов, по выбытии из семинарии в 1838 г., направляется на пономарскую должность в с. Верхне-Лумпокольское Сургутского округа, где настоятелем служил его дядя – Иван Васильевич Вергунов [2, л. 57, 58]. В 1842 г. Яков посвящается архиепископом Афанасием (Протопоповым) в стихарь. Однако жизнь в глуши, в тяжелой борьбе за хлеб насущный, в селении, где имелись лишь три дома членов причта, а прихожане состояли исключительно из «кочевых инородцев», не задалась. В 1843 г. «за развратные поступки» Я.А. Кайдалов был отдан под следствие, а в следующем году «по суду за оные» исключен из духовного звания [3, л. 58–58об].
Через некоторое время Яков Кайдалов приписался в мещане города Томска, а вскоре во искупление грехов по благословению родителей отправился на поклонение российским святыням «где было возможно» [10, л. 20]. Маршрут его путешествия неизвестен. В одном из рапортов Я.А. Кайдалов упоминает о своем годичном пребывании в Соловецком монастыре [9, л. 1]. По возвращении из Соловецкой обители в Санкт-Петербург, как писал сам паломник, «1862 года 1 ноября я имел подойти к Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николаевичу, при Царскосельском дворце и получил монаршее вознаграждение на путь в Палестину из собственной Его кассы» [10, л. 20]. Каким-то образом уроженец сибирской глубинки сумел произвести соответствующее впечатление и убедить императора в важности своей поездки в Святую землю. Через адъютанта ему выдается 400 рублей на дорожные расходы, а также предписание о получении «вида на поклонение» [10, л. 20].
Подобные случаи не являлись в то время уникальными. Император и члены его семьи, многие высшие сановники старались всячески поддерживать проявления народной религиозности. В частности, широкую известность приобрело паломничество двух русских крестьянок, которые в 1844 г., не зная европейских языков, добрались, по обету, на своей повозке из Перми в итальянский город Бари. На обратном пути, в Санкт-Петербурге, они были обласканы царем [19]. Еще один пример, описанный историком А.И. Сулоцким: паломничество в Иерусалим «крещеного киргиза» из Омска Ивана Вишнякова (до крещения – Турджан) в 1850–1851 гг. [17].
По прибытии в Одессу Я.А. Кайдалов 31 марта 1865 г. получил в канцелярии местного градоначальника загранпаспорт. В документе, в частности, следующим образом описывается внешность владельца: рост 2 аршина 3 ¾ вершка (около 159 см.), волосы русые, брови русые, глаза серые, лицо чистое, особые приметы – «нога ломана» [10, л. 28].
Отметки на заграничном паспорте указывают дальнейший маршрут Я.А. Кайдалова: 01 (12) апреля[1] 1865 г. – генеральное консульство Османской империи в Одессе, 28 зуль-каада 1281 г. Хиджры (т. е. 11 апреля 1865 г. по юлианскому календарю) – Константинополь, Российское консульство в Салониках (дата отметки не сохранилась), Российское консульство в Египте 4 (16) ноября 1865 г. (въезд) – 10 (24) декабря 1865 г. (выезд) [10, л. 28об–29]. В Греции и Египте внимание паломника привлекли монастыри Афона и Синайского полуострова.
19 (31) марта 1866 г. он наконец-то достигает Иерусалима – цели своего путешествия. В священном граде сургутянин задержался более чем на год. В Государственном архиве Томской области нами обнаружен интересный документ – датированное 5 июля 1867 г. «свидетельство», собственноручно выписанное «заведующим делами» Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонином (Капустиным):
«Предъявитель сего, послушник Иаков Кайдалов в бытность свою в Иерусалиме в 1866 и 67 годах занимался с успехом пением в хоре Иерусалимской Духовной Миссии, и отличался тихим и скромным поведением…» [9, л. 2]. (см. Приложение).
Приложение
Нужно отметить, что сам начальник Русской духовной миссии, внесший огромный вклад в укрепление позиций России в Святой земле, архимандрит Антонин (Капустин) (1817–1894 гг.) происходил из Зауральских земель. Его предок – Михаил Капустин в начале XVIII в. служил дьячком в селе Колчедан Сибирской губернии. Внук Михаила – Василий проходил обучение в Тобольском духовном училище при митрополите Антонии (Нарожницком), в 1760 г. был рукоположен в священники с. Водениковское Далматовского заказа Тобольской губернии. Его старший сын Леонтий (дед Антонина (Капустина)) обучался в Тобольской духовной семинарии, женился на дочери Тобольского мещанина Ирине Летосторонцевой [См.: 11]. В свою очередь у их сына Ивана, служившего дьячком Батуринской Преображенской церкви, 12 августа 1817 г. родился сын Андрей – впоследствии названный митрополитом Никодимом (Ротовым) «самым выдающимся деятелем русского православия в Иерусалиме и на Востоке» [Цит. по: 13].
Судя по дневникам о. Антонина он не забывал о своей малой родине, к себе же иногда шутливо обращался «Грубый Сибиряк» [16, л. 103]. О том, что его связь с родными и знакомыми не прерывалась, свидетельствуют опять же страницы дневника: «Письма в Москву и за Урал», «Писание писем в Москву и Зауралье», «В Зауралье пока все обстоит благополучно» [16, л. 115, 125об, 212об].
Что же касается Я.А. Кайдалова, то следы его пребывания в Святой земле при внимательном изучении можно обнаружить в дневнике настоятеля Русской духовной миссии, называвшего нашего героя по какой-то причине «Яковом Нарымским», а его товарища и напарника И. Козубского – «Иваном Полтавским».
Понедельник, 23 мая 1866 г.: «Служил Божественную литургию в самом Гробе Господнем. Пели Яков Нарымский и Иван Полтавский с поклонницами. Окончив службу угощали о. Серафима, смотрел на Армянскую службу» [16, л. 121об].
Вторник, 31 мая 1866 г.: «Обед. Регент со словом о возврате в Россию. Иаков и Иоанн с благодарностию» [16, л. 123].
Пятница, 10 июня 1866 г.: «Нарымский Яков с жалобой на Регента, который ругат его шибко не за што не про што» [16, л. 125] (подражание речи Я.А. Кайдалова).
Возможно, Я.А. Кайдалов приехал в Иерусалим не один. В таком случае на его решение остаться в Палестине могло оказать влияние следующее событие, упоминаемое в дневнике Антонина (Капустина): Понедельник, 11 апреля1866 г.: «В 8 часов погребение рабы Божией босоногой Анны Томской. Желала страстно умереть в Иерусалиме и достигла своего желания! Мир страннице и труженице» [16, л. 113об].
Из вышеизложенного понятно, что пребывание сургутянина в Святой земле связано с деятельностью хора при Русской духовной миссии – созданного еще в 1847 г. учреждения, призванного укрепить позиции православия на родине христианства. Однако наивысшего расцвета миссия достигла при настоятеле Антонине (Капустине), когда во многом благодаря его стараниям были заложены основы русского присутствия в Палестине.
Архимандрит Антонин приехал в Иерусалим 11 сентября 1865 г. для того, чтобы привести в порядок совершенно расстроенные при его предшественнике отношения с Иерусалимским патриархатом и русским консульством. Человек спокойного, миролюбивого нрава он сумел достаточно быстро восстановить нарушенный миропорядок: сблизился с патриархом Кириллом, высказывал полную лояльность консулу. Одной из главных задач на этом этапе о. Антонин считал создание прочной материальной базы для духовной миссии. Так, в марте 1866 г. была совершена купчая крепость на место в селении Бет-Джала близ Вифлеема, где впоследствии создается школа для девочек и женская учительская семинария. Продолжались работы по благоустройству главного храма миссии – Троицкого собора.
Первые годы пребывания Антонина (Капустина) в Иерусалиме – время непрерывного осторожного поиска оптимальных форм, в рамках которых Русская духовная миссия могла бы существовать в Святой земле, не раздражая ни греческое духовенство, видевшее в ней потенциального конкурента, ни консула, воспринимавшего миссию не более чем в качестве собственного «филиала», ни турецкие власти.
В таких непростых условиях начинила разворачиваться плодотворная работа нового настоятеля. К задачам миссии относилось, в том числе, и приобщение местного населения к «пышному и величавому русскому богослужению» [12, с. 100]. С ее решением было непосредственно связано и создание хора русских певчих.
Нужно отметить, что попытки использования русского хора, как и многие другие инициативы миссии, встречали сопротивление со стороны греческого духовенства Иерусалимского патриархата:
Святой пяток, 1 апреля 1866 г.: «Отказал нам Патриарх в удовольствии помолиться в Гефсимании, не согласился ни за что, чтобы пение было русским… И что вышло из запрещения? Все-таки слышалось большею частью русское пение, устроенное кое-как поклонниками» [16, л. 111об].
Хор миссии насчитывал тогда (если судить по дневникам о. Антонина) всего трех человек: Порфирий Белавин (вероятно – «регент»), Иван Козубский и Яков Кайдалов. Прежний настоятель Леонид (Кавелин), после перемещения в 1865 г. к посольской церкви в Константинополь пытался перевести из Иерусалима знакомых ему певчих, в частности И. Козубского «как знающего основательно пение и музыку» [15, л. 2]. Из завязавшейся по этому поводу переписки становится ясно, что служба в турецкой столице в сравнении с Иерусалимом давала гораздо больше выгод: певчие при Русской духовной миссии набирались из вольнонаемных разных сословий, не имевших соответствующего образования, жалованья они получали «несколько менее» 800 руб. в год, жизнь в Палестине была дороже. Хотя П. Белавин и И. Козубский выразили согласие перебраться в Константинополь, дело ничем так и не закончилось. Неоднократные упоминания о переписке между Константинополем и Иерусалимом по данному вопросу содержаться и в дневниках Антонина (Капустина) [16, л. 100об, 104, 120].
П. Белавин и И. Козубский еще в течение многих лет продолжали служить при миссии, хотя отношения между ними и отцом настоятелем нельзя было назвать безоблачными. Последнее же упоминание о пребывании Я.А. Кайдалова при Русской духовной миссии в Иерусалиме в дневниках о. Антонина относится к 26 июня 1867 г.: «Яков приходил сегодня с объявлением, что он со следующим пароходом едет в свою Сибирь и думает поступать в Алтайскую миссию» [16, л. 212].
Длительное проживание в местности, как отмечал сам Я.А. Кайдалов, с «несносным жарким климатом», оказалось для человека со слабым здоровьем слишком тягостным. В июле 1867 г. он покинул Святой град. В период между отъездом из Иерусалима и прибытием в Одессу в мае 1868 г. Я.А. Кайдалов посетил христианские святыни в итальянском городе Бари (Бар-град) и в малоазийских Мирах Ликийских (Базилику св. Николая, построенную для хранения мощей святителя в 1087 г.; Церковь св. Николая в Нижних Мирах, где велись восстановительные работы на выделенные Россией деньги).
По возвращении домой Я.А. Кайдалов узнал о смерти родителей и в январе 1869 г. принял решение поступить послушником в Крестовую церковь Томского архиерейского дома, на что было получено дозволение преосвященного Томского и Семипалатинского Платона (Троепольского) [9, л. 1].
На этом странствия нашего героя, продолжавшиеся по его словам более десяти лет, не закончились. Спустя три года он намеревается вновь совершить паломничество в Палестину, на что получает разрешение от епархиального архиерея и паспорт, датированный 2 мая 1872 года: «Уволен сроком на один год для следования в заграницу Турции и Черногории, городов именно: Одессы, Кишинёва, Феодосии, Керчи, Таганрога и городов Кавказского края, смотря потому откуда он, Кайдалов, сочтет для себя удобным исходатайствовать себе у местного пограничного начальства» [10, л. 3].
Однако на сей раз желанию Я.А. Кайдалова не суждено было сбыться. Вот как о своем очередном путешествии поведал сам автор в одном из рапортов: «Я проехал из Томска в Москву к Сергию Преподобному и где мог быть, потом возвратившись к границам Турции, прибыв в Севастополь где на пути встретил тяжкую болезнь, там пролежал в лазарете три месяца, потом по слабому моему здоровью я не мог далее следовать причем был в монастыре Св. Климента Папы Римского от Севастополя в семи верстах и прожил в оном с октября 1872-го по сентябрь 1873 год и паспорт мой просрочился… но как проживание для меня было трудно в Севастополе нашел удобным обратится в Воронеж… проживаю в Воронеже в монастырском странноприимном доме а по получении нового паспорта могу следовать к сопределенному мне пути…» [10, л. 10–11].
О дальнейших жизненных перипетиях нашего героя, его трудном возвращении домой здесь нет необходимости рассказывать. Но из всего вышеизложенного становится понятно, что еще в третьей четверти XIX века жителю Сибири предпринять паломничество в Палестину было крайне сложно. Поездка сопровождалась множеством проблем и огромными расходами. Лишь исключительные обстоятельства, такие как вмешательство и материальная помощь императора (наряду с упорством и настойчивостью сургутянина в достижении намеченной цели) помогли Я.А. Кайдалову осуществить задуманное.
На протяжении нескольких столетий представления о Святой земле жители Западной Сибири черпали почти исключительно из ветхозаветных и евангельских сказаний или весьма немногочисленного круга литературных источников. Живое слово непосредственного наблюдателя, современная жизнь Палестины очень редко доходили до сибиряка. Тем не менее, связь Сибири с родиной христианства становилась все более крепкой, в том числе, благодаря таким людям как о. Антонин (Капустин) и Яков Кайдалов.
© Цысь Валерий Валентинович,
Профессор, зав. кафедрой истории России Нижневартовского государственного университета (НВГУ)
© Цысь Ольга Петровна,
научный сотрудник лаборатории региональных исторических исследований, доцент кафедры истории России Нижневартовского государственного университета (НВГУ)
Иерусалимский вестник Императорского Православного Палестинского Общества.
Выпуск № VII-VIII. 2015 г.
Издательство: Иерусалимское отделение ИППО
Иерусалим. ISBN 978-965-7392-77-5
Страницы 213-220
Литература
- Акишин М.О. Побратался поп с шайтаном… Православные идолопоклонники в Сибири XVIII века [Электронный ресурс] URL: http://zaimka.ru/religion/shaitan.shtml (дата обращения: 25.09.2014).
- Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске (далее – ГУТО ГА в г. Тобольске). Ф. И-156. Оп. 19. Д. 17.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 20.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 21.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 146.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 147.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 149.
- ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-189. Оп. 1. Д. 17.
- Государственный архив Томской области (далее – ГАТО). Ф. 170. Оп. 3. Д. 1002.
10. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 1877.
11. Из автобиографических записок бывшего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме о. Архимандрита Антонина [Текст] // Сообщения Императорского Православного Палестинского общества за 1899 год. – Т. 10. – С. 9–12.
12. Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале ХХ в. [Текст] / Н.Н. Лисовой. – М., 2006. – 512 с.
13. Полжизни, отданные Востоку [Текст] // Православные монастыри. Путешествия по святым местам. – 2010. – № 61. – С. 10–15.
14. Православные приходы Березовского края в XIX – начале XX века (материалы для истории местных сообществ азиатской России) / Ред. сост. С.В. Туров [Текст] / – Тюмень, 2004. – 461 с.
15. Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 797. Оп. 36. Д. 17.
16. РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 1125.
17. Сулоцкий А.И. Киргиз на поклонении Св. местам русским и палестинским (тут и о поводах, по каким он обратился и другие его сородичи обращаются в христианство) [Текст] / А.И. Сулоцкий // Странник. – 1862. (сентябрь). – С. 54–63.
18. Сургутский уезд в документальных памятниках XVIII–XIX вв.: источники. / Ред. сост. В.Я. Темплинг [Текст] / – Тюмень, 2006. – 374 с.
19. Талалай М.Г. Паломничество к Гробнице Чудотворца [Электронный ресурс] URL: http://bargrad.com/podvorie/ (дата обращения: 25.09.2014).
Церкви Обдорска: летопись в документах. Вып. 1. Васильевская церковь (1746–1824) / Ред. сост. В.Я. Темплинг [Текс] / – Тюмень, 2005. – 359 с.